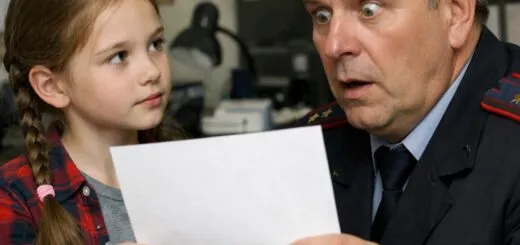Кем она была? Подарок за спасение жизни заставил бывшего заключенного забыть о своем прошлом
Она улыбнулась той особенной улыбкой, которую он научился распознавать за два года вместе. Улыбкой, которая значила «ты сказал что-то правильное».
— Ты же уже решил, — сказала она мягко. — Я вижу по глазам.
— Может быть. Тебе это нужно. Медовка, деревня, эти люди… Ты там ожил, помнишь? Когда приехал, был как тень. А потом… расцвел.
— Красивое слово.
— Правильное слово. — Она встала, подошла к нему, села на колени, обняла. — Соглашайся. Мы справимся. Неделя там, неделя здесь — это не конец света. Анечке полезно будет на воздухе, да и мне тоже. Я могу работать удаленно, начальство согласится.
— Ты уверена?
— Абсолютно.
Он обнял ее в ответ — крепко, благодарно — и почувствовал, как отпускает напряжение, которое держал весь день. С ней все было проще. С ней любые решения казались правильными.
Через неделю Андрей позвонил в министерство и сказал «да». Следующие месяцы были сумасшедшими: бумаги, согласование, закупки оборудования. Набор команды — это оказалось сложнее всего. Найти врачей, готовых мотаться по деревням вместо теплого городского кабинета, было непросто.
Первым пришел Костя — молодой терапевт, только после ординатуры, горящий глазами и идеалами.
— Я хочу быть земским врачом, — сказал он на собеседовании. — Как в старые времена. Писатели — классики… Они же с этого начинали.
— Романтик?
— Есть немного. Это плохо?
— Это прекрасно. Держись за это.
Второй пришла Людмила Ивановна, медсестра с тридцатилетним стажем, из тех, кто знает больше иного доктора. Сухая, строгая, с руками, которые могли и капельницу поставить вслепую, и младенца принять, и поддержать в трудную минуту.
— Я всю жизнь в городе проработала, — сказала она. — Хватит. Хочу напоследок настоящим делом заняться.
— Напоследок?
— Мне шестьдесят два. Пенсия через три года. Хочу уйти с чувством, что не зря халат носила.
Третьим стал Серега — фельдшер, бывший военный, списанный по контузии. Немногословный, надежный, с татуировкой «За ВДВ» на плече и неожиданно нежными руками.
— Я людей чинить умею, — сказал он просто. — Под огнем чинил, без огня тем более справлюсь.
Команда получилась странная: молодой романтик, старая гвардия и ветеран войны. Но Андрей чувствовал: именно так и надо. Разные — значит, дополняют друг друга.
Машину дали хорошую — новенький микроавтобус с красным крестом на борту, переоборудованный под мобильный медпункт. Внутри — кушетка, аппарат УЗИ, портативный рентген, стерилизатор, шкафы с лекарствами. Не операционная, конечно, но для первичной помощи — выше всяких похвал.
Первый выезд был в марте, ровно через два года после того дня, когда Андрей вышел из тюрьмы и встретил Катю.
— Символично, — сказала она, провожая его у порога.
— Ты веришь в символы?
— Начинаю верить.
Он поцеловал ее, поцеловал сонную Анечку в макушку и сел за руль. Столица за окном сменялась пригородами, пригороды — полями, поля — лесами. Дорога была знакомой, он ездил по ней десятки раз за последний год, но сегодня она казалась другой. Новой.
В Медовку приехали к обеду. У сельсовета — старого деревянного здания с выцветшим флагом — уже собралась толпа. Человек пятьдесят, не меньше. Старики, женщины с детьми, мужики в телогрейках.
— Андрей Сергеевич!
Клавдия Петровна протиснулась вперед, обняла его.
— Наконец-то! Мы тебя ждали-ждали.
— Я же предупреждал, что приедем.
— Так мы не верили. Думали, опять пообещают и забудут. Как всегда.
Прием вели до вечера. Костя измерял давление, Людмила Ивановна брала кровь на анализ, Серега делал перевязки и уколы. Андрей смотрел сложных, тех, кого направляли из соседних деревень, кто не мог добраться до районной больницы. Дед Федор пришел с хроническим бронхитом, запущенным до полуастмы. Жена Платонова — с подозрением на диабет, который никто раньше не диагностировал. Молодая женщина из соседнего села — с двухлетним сыном, у которого задержка развития, требующая консультации невролога.
— Я им говорила, езжайте в область, — сказала Людмила Ивановна в перерыве. — А они: денег нет, машины нет, страшно. Поэтому мы здесь.
— Да. Поэтому.
Вечером, когда последний пациент ушел, Андрей сидел на крыльце бабушкиного дома и смотрел на закат. Небо было розовым, с лиловыми прожилками облаков, и яблони в саду (те самые, что цвели в его первую весну здесь) уже набухали почками.
— Устал? — спросила Катя, выходя на крыльцо с двумя чашками чая. Она приехала днем с Анечкой, пока он вел прием. Теперь дочка спала в комнате, а они вдвоем сидели в сумерках, как тогда, два года назад.
— Устал, — признался он. — Но хорошо устал.
— Это как?
— Это когда знаешь, что усталость имеет смысл. Что ты не просто крутишь колесо.
Она кивнула, прижавшись к его плечу.
— Я видела, как они на тебя смотрят. Эти люди. Как на Бога.
— Не преувеличивай.
— Не преувеличиваю. Клавдия Петровна рассказывала: в соседней деревне женщина родила мертвого ребенка. Два года назад. Потому что скорая не приехала вовремя, а сама она не могла… Если бы ты был тогда здесь…
— Я не был.
— Но теперь будешь.
Он молчал. Слова были лишними. Катя понимала его без слов — это было одно из тех чудес, которые он до сих пор не мог объяснить.
— Знаешь, — сказала она тихо, — я иногда думаю: что было бы, если бы машина не упала в реку? Если бы я просто доехала до столицы, родила в нормальном роддоме? Мы бы никогда не встретились.
— Мы бы встретились.
— Откуда ты знаешь?
— Не знаю. Верю.
Она рассмеялась — тихо, нежно.
— Ты — и веришь?
— Ты меня научила.
Весна принесла новые заботы. Выезды в соседние села, консультации, направления в область. К маю Андрей знал по именам всех жителей тридцати деревень, входивших в его участок. Знал их болезни, их страхи, их семейные истории.
Григорий, тот самый контуженный из Афгана, к которому Клавдия Петровна не советовала ходить, оказался первым сложным случаем. Однажды утром он пришел сам, стоял у калитки, мял в руках засаленную кепку.
— Доктор! Можно вас?
Андрей вышел.
— Конечно. Что случилось?
Григорий молчал долго — так долго, что Андрей уже хотел предложить зайти в дом. Потом сказал глухо:
— Я это… Не сплю. Третий месяц почти. Закрою глаза — и там… Звуки. Крики. Не могу.
— Посттравматическое расстройство?
— Чего?
— Это когда война не отпускает. Когда то, что видел, продолжает сниться.
Григорий поднял голову, посмотрел ему в глаза, и в этом взгляде было столько боли, что Андрей невольно отступил.
— Сорок лет, — сказал Григорий хрипло. — Сорок лет не отпускает. Я думал, привыкну. Не привык.
Андрей довел его до дома, усадил на веранде, налил чаю. Разговаривали долго: о войне, о потерях, о том, как жить дальше. Григорий рассказывал урывками, сбивчиво, путая даты и имена. Но Андрей слушал внимательно, не перебивая, потому что иногда это все, что нужно человеку, — чтобы его выслушали.
— Я вам лекарство выпишу, — сказал он наконец. — Но главное не лекарство. Главное — не оставаться одному. Приходите ко мне, когда плохо. Просто поговорить.
— А вам это зачем?
— Затем, что я врач. И затем, что… я тоже был в месте, откуда трудно вернуться. Не на войне — в другом месте. Но я понимаю.
Григорий смотрел на него долго, изучающе. Потом кивнул:
— Ладно, приду.
Он стал приходить каждую неделю. Сначала молчал больше, чем говорил. Потом разговорился: о жене, которая ушла, не выдержав его кошмаров; о сыне, который живетв другом городе и не звонит; о деревне, которая стала его тюрьмой и его убежищем одновременно.
— Вы его вытащили, — сказала Клавдия Петровна однажды, когда Григорий помогал Андрею чинить забор — молча, сосредоточенно, как человек, который забыл, что умеет работать руками. — Сорок лет он ни с кем не разговаривал, а теперь смотрите.
— Не я вытащил. Он сам…