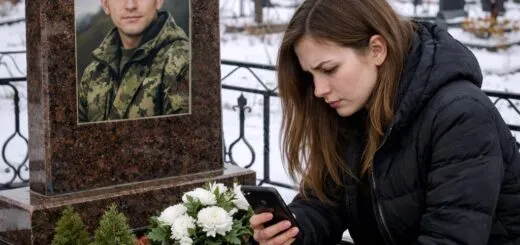«Они будут умолять»: свекровь бросила больную мать ради моря, но не знала о тайнике под комодом
Дверь была заперта на щеколду снаружи. Специально, намеренно, чтобы не вышла. Она рванула железку так, что та впилась в ладонь до белых полос на коже, и распахнула дверь. Ее тут же ударил в лицо тяжелый кислый запах. Застоявшийся воздух и что-то еще, приторное и страшное, чему она не хотела давать названия.
Комната была крошечной и безрадостной. Панцирная кровать с продавленной сеткой, обшарпанный комод с облупившимся лаком, единственное окно, заклеенное строительным скотчем, «чтобы не дуло» (как объясняла свекровь, хотя на деле просто не хотела возиться с форточкой).
На матрасе под тонким одеялом, с вылезшей из угла ватой, лежало тело — такое худое, что казалось, кости вот-вот прорвут истончившуюся кожу, и такое неподвижное, что первую секунду Ярослава подумала: опоздала.
— Господи… — выдохнула она, опускаясь на колени рядом с кроватью и не замечая, как больно упираются в пол твердые доски. — Господи, бабушка!
Она взяла ее руку, холодную и невесомую, с синими прожилками вен под пергаментной кожей, и почувствовала слабое, едва уловимое биение пульса. Такое редкое, что между ударами, казалось, проходила целая вечность. Губы старухи были потрескавшимися и белыми от обезвоживания, глаза закрыты, запавшие щеки обтягивали скулы, а дыхание было таким тихим, что приходилось наклоняться к самому лицу, чтобы его расслышать.
Слезы текли по щекам, пока Ярослава бегала между кухней и комнатой, принося теплую воду в чашке и вливая ее по чайной ложке в пересохший рот, стараясь не торопиться, чтобы бабушка не поперхнулась. Она обтирала тело влажным полотенцем — осторожно, как обтирают младенцев, — переодевала бабушку в чистую ночную рубашку из собственного чемодана, потому что белье на кровати было грязным. От одного взгляда на него к горлу подкатывала тошнота.
Все это время она думала только об одном: как они могли? Как они посмели? Как я могла им доверять пять лет, пять долгих лет? Шестьдесят пять тысяч из своих девяноста пяти она отдавала Эрику каждый месяц на сиделку, на корейские лекарства, на лечебное питание.
«Ты же понимаешь, — говорил он, не отрываясь от телефона, листая какие-то бесконечные ролики. — Уход за бабулей стоит денег. Сиделка хочет пятьдесят тысяч, плюс памперсы, плюс препараты. Это такое регион, тут все дорого».
А она верила. Потому что хотела верить, потому что так было проще, потому что любила его когда-то. Или думала, что любила.
Ярослава достала телефон, вытерла мокрые глаза тыльной стороной ладони и начала набирать «103», когда тонкие сухие пальцы вдруг сомкнулись на ее запястье с такой силой, что она вскрикнула и едва не выронила телефон.
— Не надо врачей.
Голос был хриплым от долгого молчания, но абсолютно ясным. Никакого невнятного бормотания, никакой каши во рту, никакой пустоты во взгляде. Ярослава медленно повернула голову и встретилась с глазами бабушки Устинью. Широко открытыми, серыми с прозеленью, холодными, как октябрьское море за окном, смотрящими на нее с такой пронзительной остротой, что по спине пробежал холодок.
— Бабушка… — прошептала она. — Вы… вы меня понимаете?
— Лучше, чем ты думаешь, девочка, — ответила старуха, и ее губы дрогнули в чем-то похожем на улыбку. Недобрую, хищную, совсем не похожую на рассеянную гримасу, которую Ярослава привыкла видеть последние три года. — Закрой дверь на щеколду. И шторы задерни, чтоб с улицы не видно было.
— Но вам нужен врач! Вы два дня без воды, вы могли умереть!
— Я сказала: закрой дверь.
Это был приказ. Не просьба, не мольба умирающей, а именно приказ, отданный голосом человека, привыкшего командовать. Ярослава подчинилась прежде, чем успела подумать. Что-то в этом голосе не допускало возражений, что-то властное и абсолютное.
Щеколда лязгнула, штора зашуршала, скрывая окно, и в комнате стало совсем темно. Только полоска света из-под двери чертила бледную линию на грязном полу.
— Комод, — сказала бабушка, и ее глаза блеснули в полумраке. — Отодвинь его от стены. Под ним доска, светлее остальных. Подними ее.
— Что там? — спросила Ярослава, но уже двигалась к комоду, хватаясь за его края.
— Увидишь. Делай, что говорю.
Руки дрожали, когда она тащила тяжелую мебель, царапая ножками линолеум так, что оставались белесые борозды. Доска действительно нашлась чуть другого оттенка, словно ее меняли позже, с едва заметной щелью по краю. Ярослава подцепила ее ключом от машины, сломав ноготь, и увидела в неглубокой нише металлическую коробку. Старую, жестяную, из-под монпансье, с полустертым рисунком леденцов на крышке.
— Принеси сюда. Быстро.
Внутри лежали темные стеклянные пузырьки с китайскими иероглифами, выведенными красной тушью, и блистер с капсулами без маркировки. Черные, матовые, похожие на жучков. Ярослава смотрела, как бабушка негнущимися, но уверенными пальцами откупоривает один из флаконов, и слова сами сорвались с губ:
— Что это такое? Это наркотики?
— Контрабанда, — ответила старуха, поднося пузырек к губам. — Тонизирующая настойка из Харбина. В ее голосе послышалось что-то похожее на усмешку. — Рецепт одного китайского врача, который задолжал мне услугу тридцать лет назад. Не яд, не дурь, просто очень дорогое и очень действенное средство традиционной медицины. Что-то вроде женьшеня, только покрепче. Я берегла его на крайний случай. Сейчас тот самый случай.
Она выпила содержимое одним глотком, поморщилась от горечи так, что на лбу собрались глубокие морщины, и закрыла глаза, откинувшись на подушку.
Ярослава стояла рядом, не зная, что делать: бежать за телефоном, звать на помощь или просто ждать и молиться, чтобы старуха не умерла у нее на руках. Прошло минут пятнадцать или двадцать — она потеряла счет времени. Дыхание бабушки становилось глубже и ровнее, на восковые щеки медленно возвращался цвет, слабый, но заметный румянец, словно под кожу вливалась жизнь. Старуха пошевелила пальцами, потом согнула руку в локте, потом медленно, с видимым усилием, приподнялась на подушках и, наконец, села, опираясь на спинку кровати…