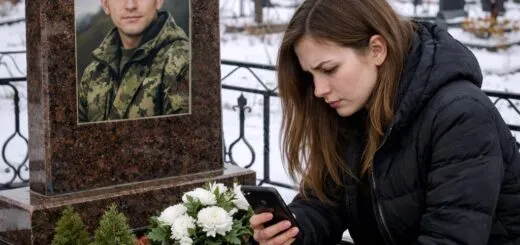Звонок в час ночи: кто пришел к женщине, представившись именем её погибшей дочери
Следующим вечером, около девяти, когда за окном уже стемнело и фонарь на столбе отбрасывал желтый круг света на мокрый асфальт, Людмила вышла из ванной и направилась на кухню поставить чайник. И замерла на пороге, схватившись за дверной косяк.
За столом сидела женщина, спиной к ней. Темные волосы собраны в хвост, серая куртка на плечах. Та самая куртка, которую она видела в ту первую ночь за калиткой, когда думала, что сходит с ума. На столе стояли две чашки чая, от которых еще поднимался пар. Она сама их заварила, нашла, где заварка в жестяной банке с петухами, где чашки в буфете. Будто бывала здесь раньше, будто это был и ее дом тоже.
Женщина медленно обернулась. Лицо Насти: те же высокие скулы, тот же разрез темных глаз, та же родинка над верхней губой, которую Настя в подростковом возрасте хотела вывести, а потом привыкла. Но выражение другое — более настороженное и измученное, с тенями под глазами и горькой складкой у рта.
— Нет, меня зовут не Настя, — сказала она тихо, и голос был тем самым голосом из телефонной трубки, только теперь он звучал в ее кухне, в ее доме. — Меня зовут Мария.
Людмила опустилась на стул напротив, потому что ноги отказывались держать. Какое-то время они просто смотрели друг на друга — мать и дочь, разлученные при рождении.
— Я знаю, — прошептала Людмила наконец. — Я была у Фадеевых. Максим Андреевич рассказал.
Мария кивнула, обхватив чашку обеими руками, будто пытаясь согреться, хотя в кухне было тепло — Людмила с утра протопила печку.
— Мы с Настей близнецы, разлученные при рождении, — заговорила она, глядя в чашку, а не на Людмилу. — Меня продали Фадеевым, они заплатили врачу. Я выросла, всю жизнь чувствуя, что чего-то не хватает, что где-то есть часть меня, которую у меня отняли. Не понимала почему. Потом, после смерти приемной матери, начала ходить к Вадиму. Искала помощи, хотела разобраться в себе. А нашла еще одного манипулятора, только умнее и страшнее всех предыдущих.
— Он знал? — голос Людмилы охрип, и она откашлялась.
— С самого начала знал, кто я. Не сразу… Но потом сделал ДНК-тест. Взял волосы с Настиной расчески, которую хранил у себя, сравнил с моими. Доказал родство. И тогда началось настоящее. Он убедил меня, что ты та, кто выбрал оставить одну дочь и отдать другую, как бракованную вещь, как щенка, которого топят, потому что слишком много в помете. Я ненавидела тебя, понимаешь? Ненавидела женщину, которую никогда не видела. Поэтому согласилась на все это: на звонки по ночам, на следы босых ног, на куклу.
— Куклу ты принесла на кладбище?
— Да. Он дал мне ключ от твоего дома. Не знаю, где взял, может, у Насти когда-то был запасной. Я приходила, когда тебя не было, забирала вещи, которые он указывал. Он знал про эту куклу, знал, что она значила для Насти.
Людмила протянула руку через стол и взяла ладонь Марии — холодную, с обкусанными ногтями.
— Дочка, я не знала, — сказала она, и собственный голос показался ей чужим и севшим. — Клянусь тебе всем святым, памятью Насти, могилой мужа — я не знала, что вас было двое. Мне сказали: «Одна девочка», и я поверила. Потому что с чего бы врачам врать? Это не твоя вина и не моя. Это они виноваты, те, кто украл тебя и продал.
Мария заплакала беззвучно. Только слезы катились по щекам, оставляя мокрые дорожки, и она не пыталась их вытирать…