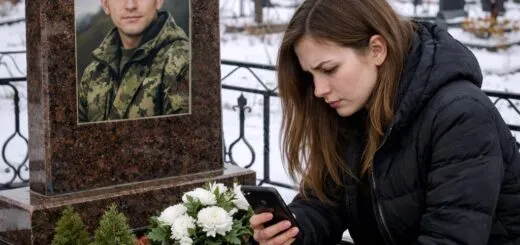Тайный план мужа: жена прислушалась к шепоту сына и обнаружила в доме то, что муж готовил к их возвращению
Параллельно решался вопрос с наследством, но уже по той схеме, которую придумал мой отец, а не Сергей. Последнего на этом этапе практически не слышали — он сидел в изоляторе. По словам Медведева, сначала пытался держаться уверенно, жаловался, что его подставили, и что это все совпадение, а блокнот — просто фантазии. Потом, когда начали говорить те, чьи фамилии там значились, резко потускнел, стал тише. Адвокат, которого ему нашли знакомые, старался, но даже ему было сложно выкручиваться, когда перед судом обещали выступить сразу несколько людей, готовых рассказывать, как они помогали организовать поджог в обмен на обещанные крупные суммы.
О том, как у Сергея обстояли дела в камере, я знала только из коротких, сухих ремарок Медведева. Тот намеренно не вдавался в детали. Просто однажды заметил, что людей, которые ведут так подробные записи о своих грязных делах и потом теряют эти записи, редко уважают даже в тюрьме, и на этом тему закрывал. Мне и не хотелось слишком много представлять, что там и как. Мне хватало того, что границы между нашими жизнями теперь проходят не по стене дома, а по решетке и охраняемой двери.
Через какое-то время наступил момент, которого я боялась больше всего, хотя заранее знала, что он неизбежен, — начался суд. Сначала подготовительное заседание, потом основное, с рассмотрением дела по существу. Мы с Никитой все это время жили у Брониславы. Она не отдала нас ни в какие официальные программы защиты свидетелей, хотя Медведев и заикался об этом. Сказала, что им больше доверяет собственным замкам и своей старой интуиции, чем бумажкам, где черным по белому напишут «свидетель по делу о покушении на убийство».
В день, когда я впервые вошла в зал суда, у меня дрожали не ноги, а пальцы. Я держала в руках сумку как щит. В коридоре пахло краской, бумагой, чьим-то дешевым одеколоном. Люди переминались, адвокаты шуршали папками. В открытом проеме было видно помещение с длинными рядами скамеек, столом для судьи, клеткой из металлических прутьев, в которой уже сидел Сергей. Он сильно изменился за это время: лицо осунулось, волосы отросли и были неаккуратно пострижены, взгляд стал нервный, бегущий. Но где-то в глубине все равно оставалось то выражение человека, который привык считать себя умнее других. Его глаза скользнули по залу, задержались на мне всего на долю секунды. И я впервые за долгое время почувствовала, что это уже не мой муж, не отец моего ребенка, а просто человек, которого я когда-то знала и который однажды принял решение, после которого дороги назад не осталось.
Когда мне подошла очередь давать показания, я встала, подошла ближе к столу, за которым сидели судьи, ответила на стандартные вопросы о себе, фамилии, имени, месте работы, которого у меня по сути на тот момент не было, и начала говорить, удивляясь тому, насколько ровно звучит мой голос. Я рассказывала о той ночи, снова и снова проговаривая, как муж уезжал, как сын просил не возвращаться домой, как мы сидели в машине напротив поселка, как видели фургон, как чувствовали запах бензина, как горел дом, как нашли сейф, как открыли его, как попали к Брониславе. Я говорила не для судьи, не для прокурора и не для адвоката, а в первую очередь для себя, чтобы каждый раз снова ставить внутреннюю точку: да, это было; да, я не придумала; да, я не преувеличиваю.
Адвокат Сергея пытался меня сбить, задавал вопросы про эмоциональное состояние, про возможную истеричность, намекал на то, что я могла увидеть то, чего не было, под влиянием стресса. Но каждый раз, как только он заходил слишком далеко, кто-то из тройки судей поднимал глаза и мягко обрывал его, а прокурор невозмутимо напоминал, что к моим словам есть не только эмоции, но и подтверждение — записи в блокноте, показания других людей, технические заключения по пожару, где было четко прописано, откуда началось возгорание и какой состав имела горючее, найденное на остатках пола.
Никиту в зал не приводили. Его показания включили оглашением, как это и договаривались через психолога. Я сидела на скамейке, слушала, как монотонный голос секретаря читает слова моего сына. И внутри все равно каждый раз сжималась от его: «Папа говорил, что надо все решить, когда мы ляжем спать». Мне хотелось закрыть уши. Но я сидела и слушала, потому что это тоже была часть пути — не отворачиваться от того, что уже произошло.
Процесс длился долго, много заседаний, много бумаги, много странных людей, которые приходили и уходили. В какой-то момент я перестала следить за календарем, просто жила от одной явки в суд до другой. Между этим помогала Брониславе разбирать оставшиеся дела отца, училась заново считать деньги — уже не из позиции жены успешного мужчины, а из позиции женщины, которой предстоит самой решать, на что тратить, во что вкладывать, на чем экономить и в какой момент можно позволить себе не экономить.
Приговор огласили в один из тех дней, когда за окном было не по сезону тепло, солнце светило, как назло, по-летнему ярко, люди на улице ходили без курток, а в зале суда было душно, пахло стулом и бумагой. Судья монотонным голосом перечислял статьи, формулировки, обстоятельства, отягчающие, смягчающие. Я цеплялась за отдельные слова, как за камни в реке. «Признать виновным в покушении на убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом из корыстных побуждений. В мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Назначить наказание в виде лишения свободы на длительный срок с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без права условно-досрочного освобождения в течение значительной части срока».
Смысл добрался до меня не сразу. Сначала были просто слова. Потом — ощущение, будто в зал вошел другой воздух, тяжелее, но чище. Сергей стоял в клетке, опустив голову. Его адвокат что-то лихорадочно шептал ему на ухо, он кивал, но по глазам было видно, что услышанное все равно не укладывается, не помещается в его картину мира, где он всегда вывертывался, выкручивался, находил лазейки. Журналистов в зале не было, никаких громких репортажей потом тоже не вышло. Это было не кино и не сенсация, просто очередное уголовное дело, доведенное до конца. Но для меня это был тот самый момент, когда я окончательно перестала ждать, что за дверью внезапно появится его знакомая фигура.
После суда началась еще одна жизнь — на этот раз без подвешенного состояния. Бронислава довела до конца оформление всех наследственных дел по той сложной схеме, которую придумал отец. Часть имущества лежала в ценных бумагах, часть — в недвижимости в разных городах. Какую-то долю она сразу предложила продать, чтобы перевести в понятные деньги, какую-то — сохранить как резерв. «Мы не будем превращать тебя в барышню, живущую только на проценты, — сказала она твердо, когда я попыталась отказаться от какой-то доли. — Иначе через пару лет ты превратишься в такую же зависимую от чужой воли женщину, только без мужа, но с кучей управляющих. Ты будешь работать, Лариса. Не для хлеба насущного, а чтобы не потерять себя. Деньги отца — это твой запас прочности, а не повод сидеть сложа руки».
Мы с Никитой переехали сначала в небольшую, но светлую квартиру ближе к центру города, с балконом, на котором можно было летом поставить пару стульев и пить чай, смотря на город. Он выбирал себе комнату сам, сказал, что хочет, чтобы окно выходило на солнце, а не во двор, и я не спорила. Потом, через какое-то время, мы смогли купить небольшой домик за городом — не такой большой и парадный, как тот, что сгорел, но наш. С новым фундаментом, новой проводкой, с садом, где Никита посадил первую яблоню, сказав, что это дерево, которое никогда не загорится от злой руки…